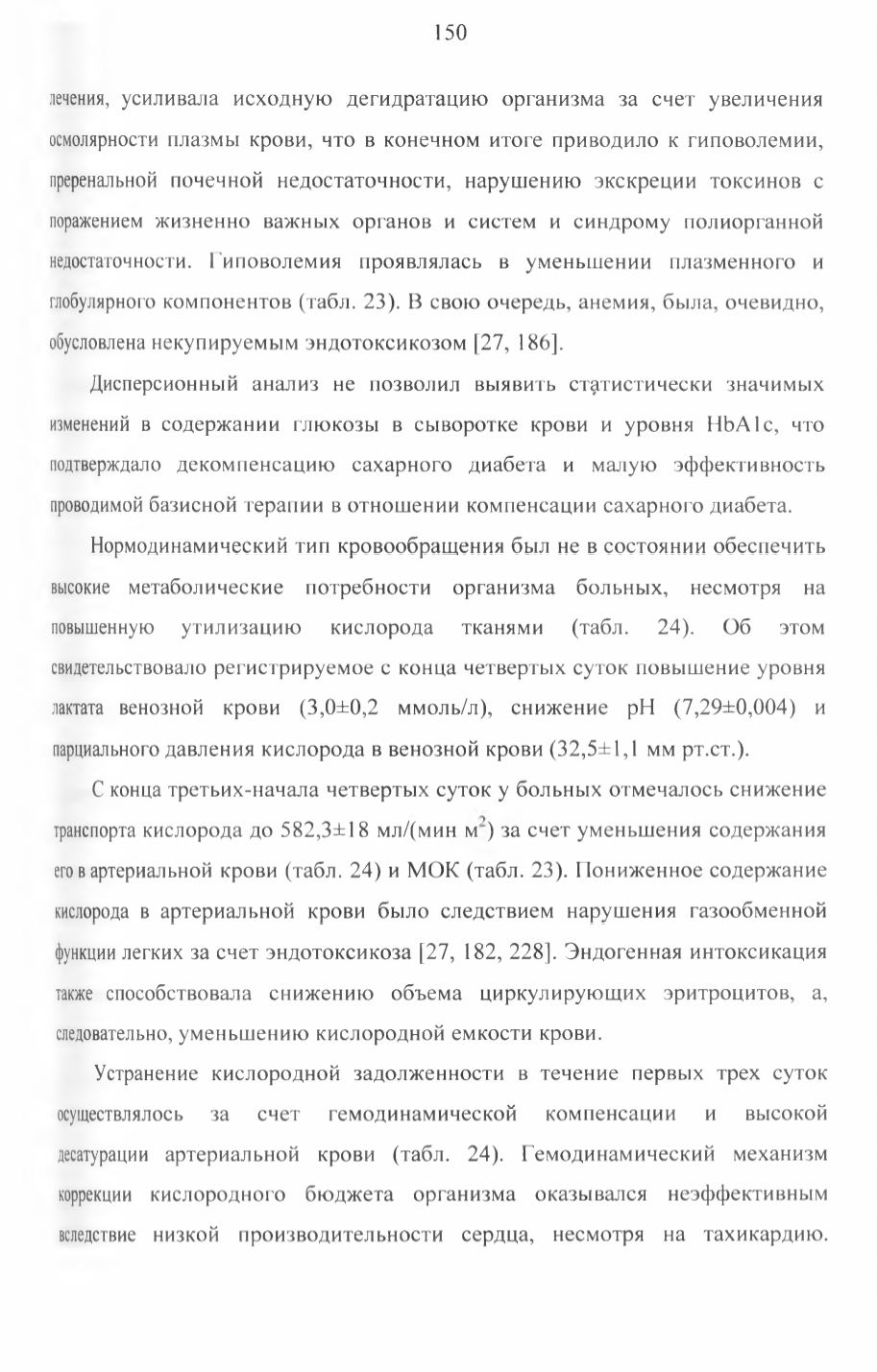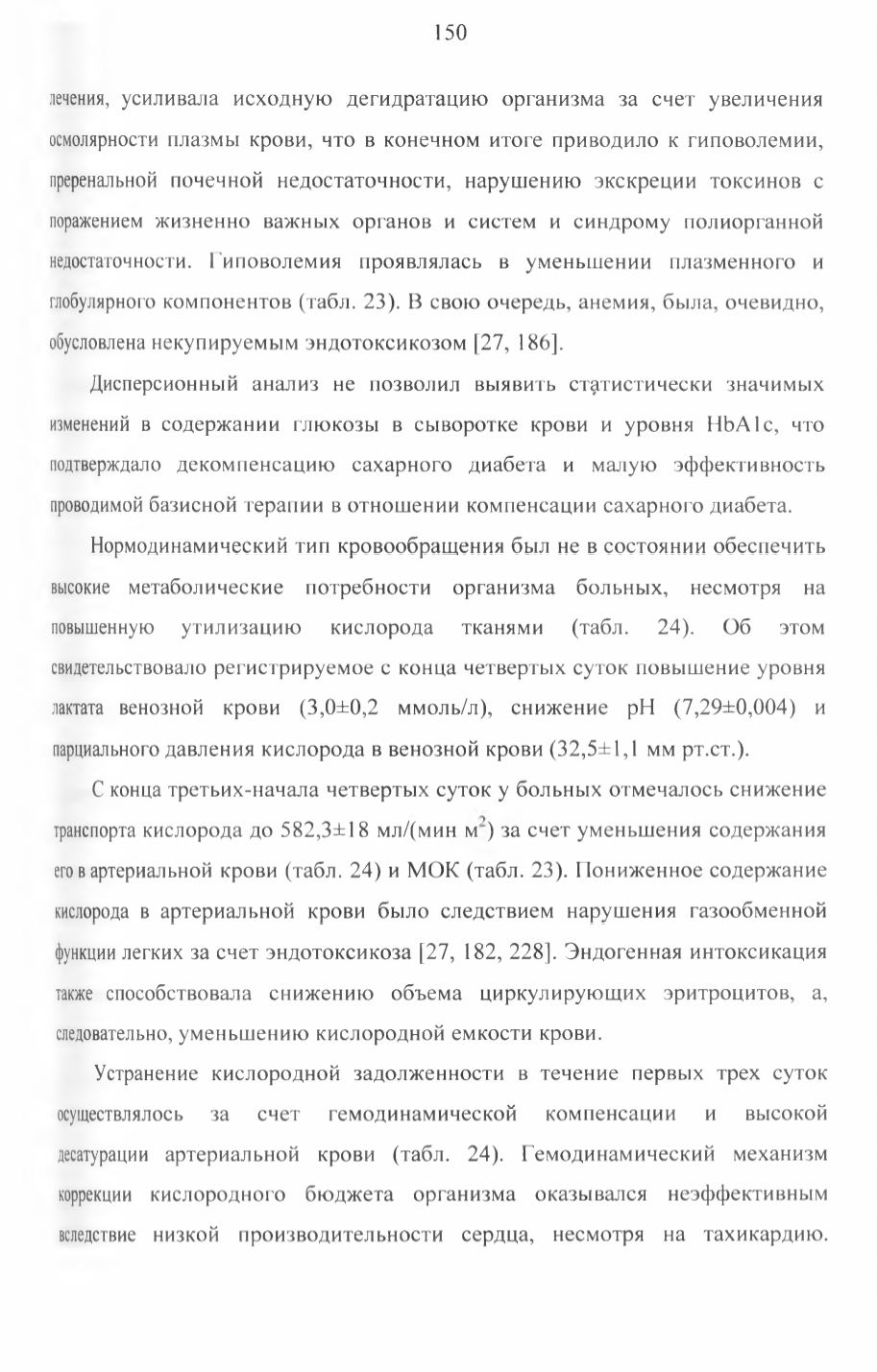
150
лечения, усиливала исходную дегидратацию организма за счет увеличения
осмолярности плазмы крови, что в конечном итоге приводило к гиповолемии,
преренальной почечной недостаточности, нарушению экскреции токсинов с
поражением жизненно важных органов и систем и синдрому полиорганной
недостаточности. Гиповолемия проявлялась в уменьшении плазменного и
глобулярного компонентов (табл. 23). В свою очередь, анемия, была, очевидно,
обусловлена некупируемым эндотоксикозом [27, 186].
Дисперсионный анализ не позволил выявить статистически значимых
изменений в содержании глюкозы в сыворотке крови и уровня HbAlc, что
подтверждало декомпенсацию сахарного диабета и малую эффективность
проводимой базисной терапии в отношении компенсации сахарного диабета.
Нормодинамический тип кровообращения был не в состоянии обеспечить
высокие метаболические потребности организма больных, несмотря на
повышенную утилизацию кислорода тканями (табл. 24). Об этом
свидетельствовало регистрируемое с конца четвертых суток повышение уровня
лактата венозной крови (3,0±0,2 ммоль/л), снижение pH (7,29±0,004) и
парциального давления кислорода в венозной крови (32,5±1,1 мм рт.ст.).
Сконца третьих-начала четвертых суток у больных отмечалось снижение
транспорта кислорода до 582,3±18 мл/(мин м ) за счет уменьшения содержания
еговартериальной крови (табл. 24) и МОК (табл. 23). Пониженное содержание
кислорода в артериальной крови было следствием нарушения газообменной
функции легких за счет эндотоксикоза [27, 182, 228]. Эндогенная интоксикация
также способствовала снижению объема циркулирующих эритроцитов, а,
следовательно, уменьшению кислородной емкости крови.
Устранение кислородной задолженности в течение первых трех суток
осуществлялось за счет гемодинамической компенсации и высокой
десатурации артериальной крови (табл. 24). Гемодинамический механизм
коррекции кислородного бюджета организма оказывался неэффективным
вследствие низкой производительности сердца, несмотря на тахикардию.