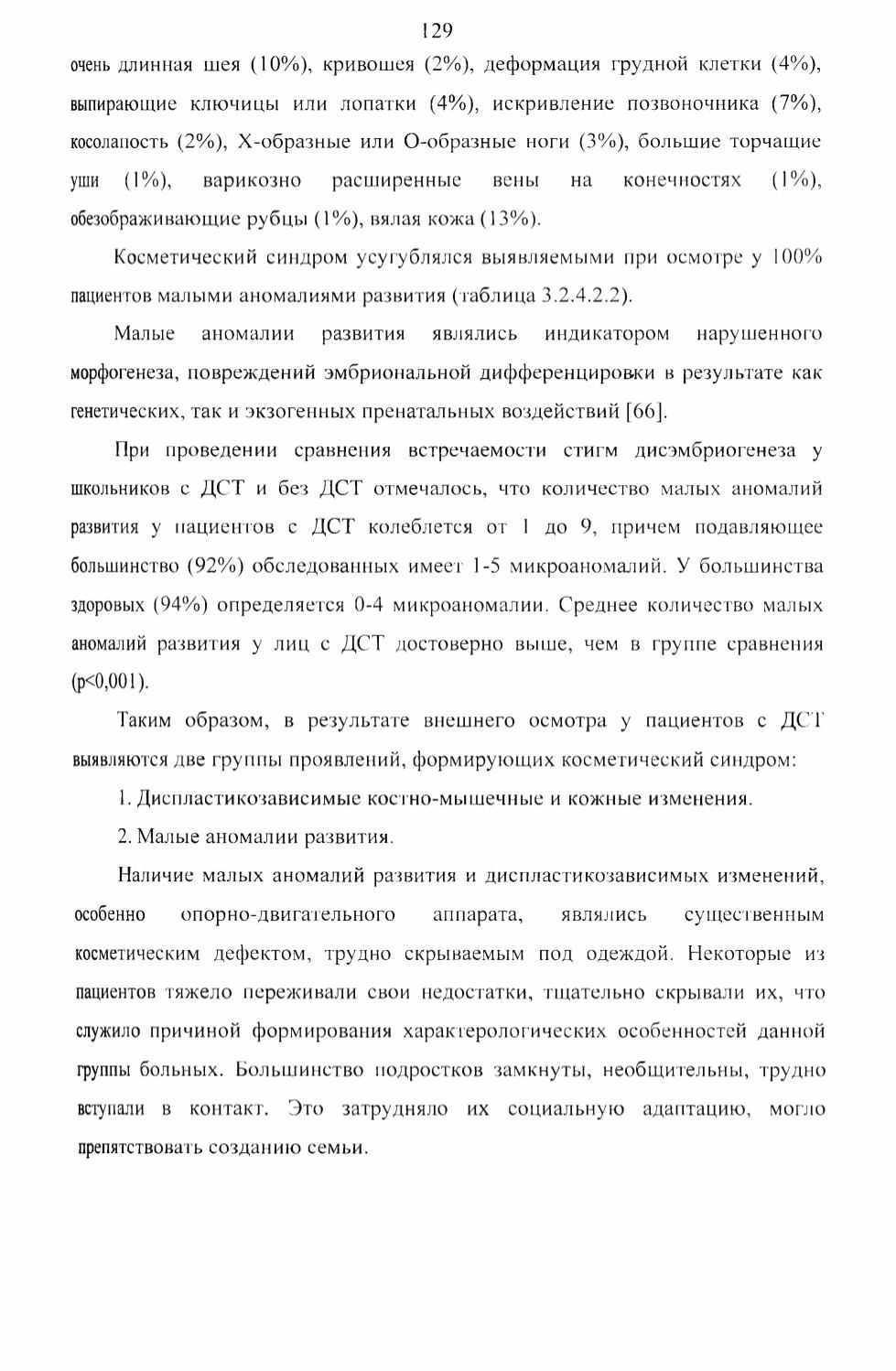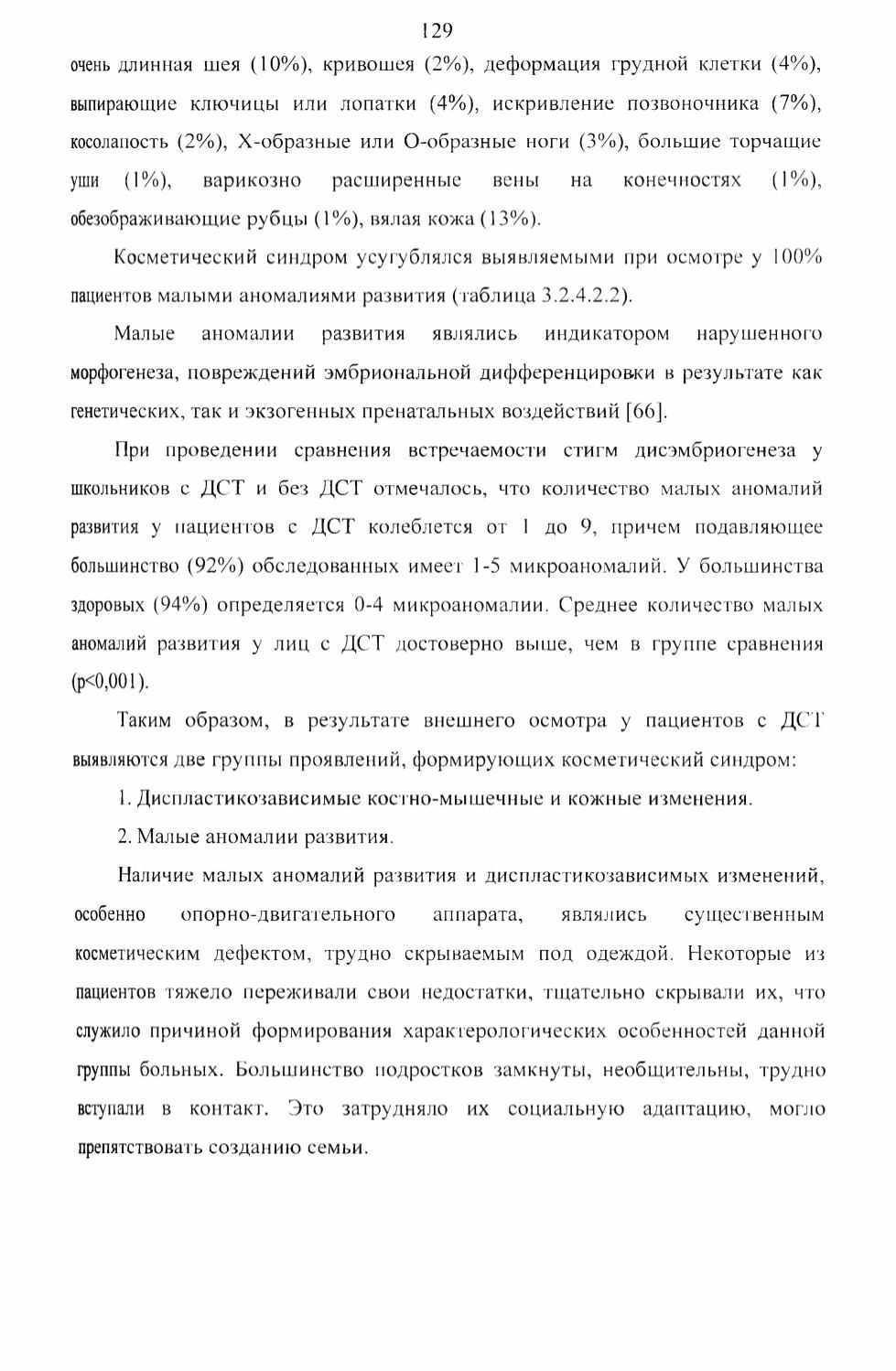
очень длинная шея (10%), кривошея (2%), деформация грудной клетки (4%),
выпирающие ключицы или лопатки (4%), искривление позвоночника (7%),
косолапость (2%), Х-образные или О-образные ноги (3%), большие торчащие
уши (1%),
варикозно
расширенные
вены
на
конечностях
(1%),
обезображивающие рубцы (1%), вялая кожа (13%).
Косметический синдром усугублялся выявляемыми при осмотре у 100%
пациентов малыми аномалиями развития (таблица 3.2.4.2.2).
Малые аномалии развития являлись индикатором нарушенного
морфогенеза, повреждений эмбриональной дифференцировки в результате как
генетических, так и экзогенных пренатальных воздействий [66].
При проведении сравнения встречаемости стигм дисэмбриогенеза у
школьников с ДСТ и без ДСТ отмечалось, что количество малых аномалий
развития у пациентов с ДСТ колеблется от 1 до 9, причем подавляющее
большинство (92%) обследованных имеет 1-5 микроаномалий. У большинства
здоровых (94%) определяется 0-4 микроаномалии. Среднее количество малых
аномалий развития у лиц с ДСТ достоверно выше, чем в группе сравнения
(р<0,001).
Таким образом, в результате внешнего осмотра у пациентов с ДСТ
выявляются две группы проявлений, формирующих косметический синдром:
1. Диспластикозависимые костно-мышечные и кожные изменения.
2.Малые аномалии развития.
Наличие малых аномалий развития и диспластикозависимых изменений,
особенно
опорно-двигательного
аппарата,
являлись
существенным
косметическим дефектом, трудно скрываемым под одеждой. Некоторые из
пациентов тяжело переживали свои недостатки, тщательно скрывали их, что
служило причиной формирования характерологических особенностей данной
группы больных. Большинство подростков замкнуты, необщительны, трудно
вступали в контакт. Это затрудняло их социальную адаптацию, могло
препятствовать созданию семьи.
129