Упрощенная HTML-версия
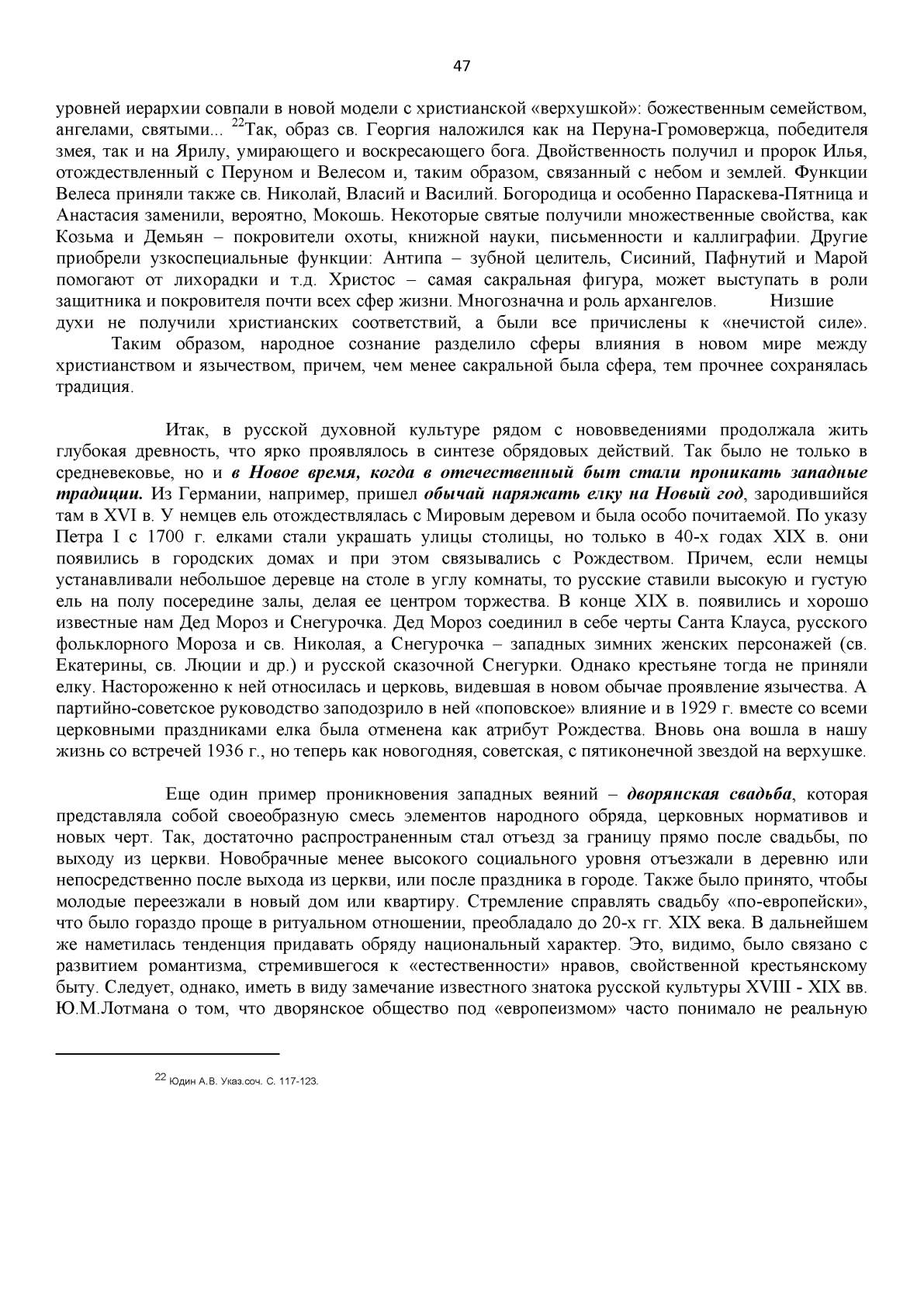
47
уровней иерархии совпали в новой модели с христианской «верхушкой»: божественным семейством,
ангелами, святыми... 22Так, образ св. Георгия наложился как на Перуна-Громовержца, победителя
змея, так и на Ярилу, умирающего и воскресающего бога. Двойственность получил и пророк Илья,
отождествленный с Перуном и Велесом и, таким образом, связанный с небом и землей. Функции
Велеса приняли также св. Николай, Власий и Василий. Богородица и особенно Параскева-Пятница и
Анастасия заменили, вероятно, Мокошь. Некоторые святые получили множественные свойства, как
Козьма и Демьян - покровители охоты, книжной науки, письменности и каллиграфии. Другие
приобрели узкоспециальные функции: Антипа - зубной целитель, Сисиний, Пафнутий и Марой
помогают от лихорадки и т.д. Христос - самая сакральная фигура, может выступать в роли
защитника и покровителя почти всех сфер жизни. Многозначна и роль архангелов.
Низшие
духи не получили христианских соответствий, а были все причислены к «нечистой силе».
Таким образом, народное сознание разделило сферы влияния в новом мире между
христианством и язычеством, причем, чем менее сакральной была сфера, тем прочнее сохранялась
традиция.
Итак, в русской духовной культуре рядом с нововведениями продолжала жить
глубокая древность, что ярко проявлялось в синтезе обрядовых действий. Так было не только в
средневековье, но и
в Новое время, когда в отечественный быт стали проникать западные
традиции.
Из Германии, например, пришел
обычай наряжать елку на Новый год
, зародившийся
там в XVI в. У немцев ель отождествлялась с Мировым деревом и была особо почитаемой. По указу
Петра I с 1700 г. елками стали украшать улицы столицы, но только в 40-х годах XIX в. они
появились в городских домах и при этом связывались с Рождеством. Причем, если немцы
устанавливали небольшое деревце на столе в углу комнаты, то русские ставили высокую и густую
ель на полу посередине залы, делая ее центром торжества. В конце XIX в. появились и хорошо
известные нам Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз соединил в себе черты Санта Клауса, русского
фольклорного Мороза и св. Николая, а Снегурочка - западных зимних женских персонажей (св.
Екатерины, св. Люции и др.) и русской сказочной Снегурки. Однако крестьяне тогда не приняли
елку. Настороженно к ней относилась и церковь, видевшая в новом обычае проявление язычества. А
партийно-советское руководство заподозрило в ней «поповское» влияние и в 1929 г. вместе со всеми
церковными праздниками елка была отменена как атрибут Рождества. Вновь она вошла в нашу
жизнь со встречей 1936 г., но теперь как новогодняя, советская, с пятиконечной звездой на верхушке.
Еще один пример проникновения западных веяний -
дворянская свадьба,
которая
представляла собой своеобразную смесь элементов народного обряда, церковных нормативов и
новых черт. Так, достаточно распространенным стал отъезд за границу прямо после свадьбы, по
выходу из церкви. Новобрачные менее высокого социального уровня отъезжали в деревню или
непосредственно после выхода из церкви, или после праздника в городе. Также было принято, чтобы
молодые переезжали в новый дом или квартиру. Стремление справлять свадьбу «по-европейски»,
что было гораздо проще в ритуальном отношении, преобладало до 20-х гг. XIX века. В дальнейшем
же наметилась тенденция придавать обряду национальный характер. Это, видимо, было связано с
развитием романтизма, стремившегося к «естественности» нравов, свойственной крестьянскому
быту. Следует, однако, иметь в виду замечание известного знатока русской культуры XVIII - XIX вв.
Ю.М.Лотмана о том, что дворянское общество под «европеизмом» часто понимало не реальную
22 Юдин А.В. Указ.соч. С. 117-123.

