Упрощенная HTML-версия
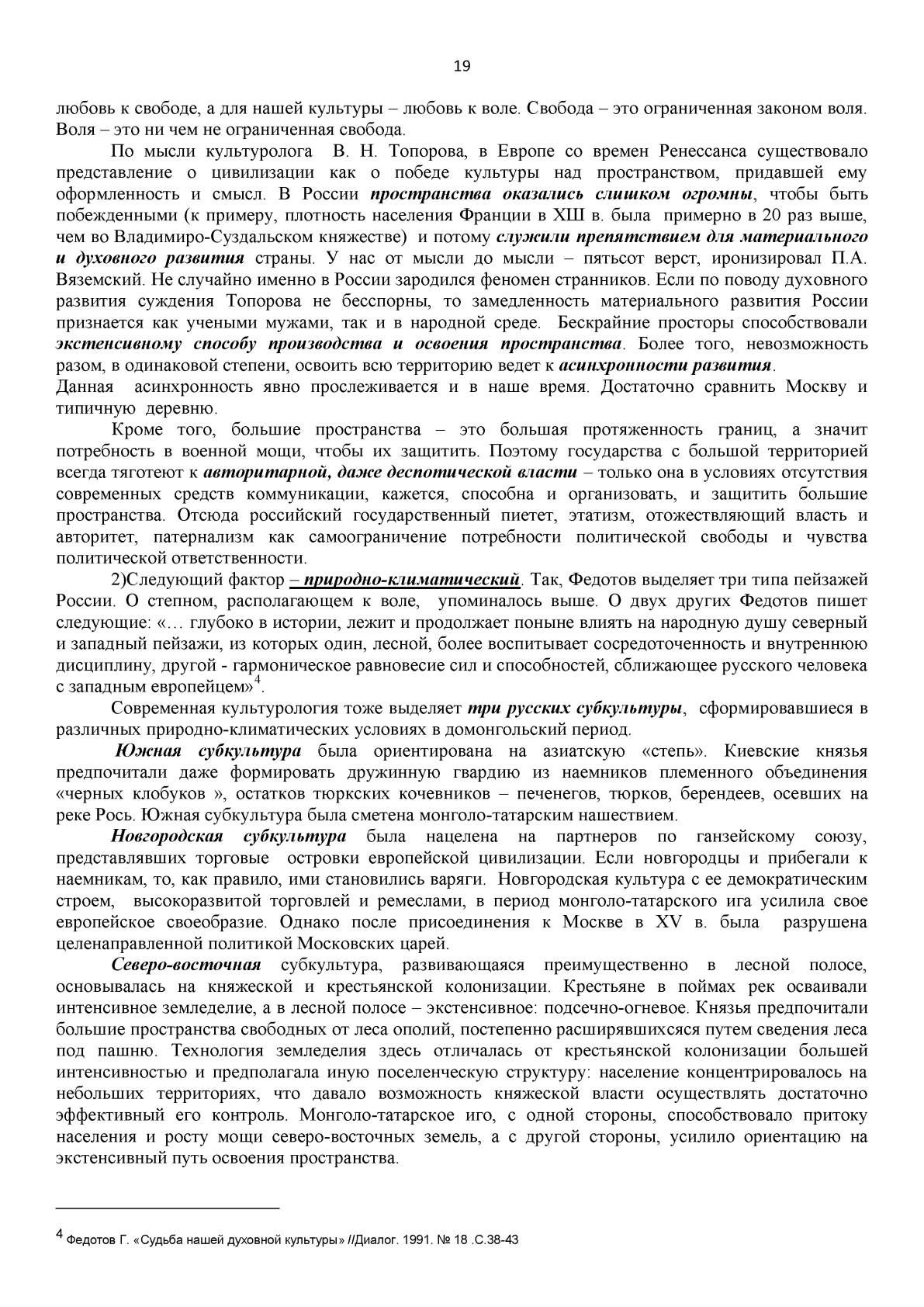
19
любовь к свободе, а для нашей культуры - любовь к воле. Свобода - это ограниченная законом воля.
Воля - это ни чем не ограниченная свобода.
По мысли культуролога В. Н. Топорова, в Европе со времен Ренессанса существовало
представление о цивилизации как о победе культуры над пространством, придавшей ему
оформленность и смысл. В России
пространства оказались слишком огромны,
чтобы быть
побежденными (к примеру, плотность населения Франции в ХШ в. была примерно в 20 раз выше,
чем во Владимиро-Суздальском княжестве) и потому
служили препятствием для материального
и духовного развития
страны. У нас от мысли до мысли - пятьсот верст, иронизировал П.А.
Вяземский. Не случайно именно в России зародился феномен странников. Если по поводу духовного
развития суждения Топорова не бесспорны, то замедленность материального развития России
признается как учеными мужами, так и в народной среде. Бескрайние просторы способствовали
экстенсивному способу производства и освоения пространства.
Более того, невозможность
разом, в одинаковой степени, освоить всю территорию ведет к
асинхронности развития.
Данная асинхронность явно прослеживается и в наше время. Достаточно сравнить Москву и
типичную деревню.
Кроме того, большие пространства - это большая протяженность границ, а значит
потребность в военной мощи, чтобы их защитить. Поэтому государства с большой территорией
всегда тяготеют к
авторитарной, даже деспотической власти
- только она в условиях отсутствия
современных средств коммуникации, кажется, способна и организовать, и защитить большие
пространства. Отсюда российский государственный пиетет, этатизм, отожествляющий власть и
авторитет, патернализм как самоограничение потребности политической свободы и чувства
политической ответственности.
2)Следующий фактор -
природно-климатический.
Так, Федотов выделяет три типа пейзажей
России. О степном, располагающем к воле, упоминалось выше. О двух других Федотов пишет
следующие: «. глубоко в истории, лежит и продолжает поныне влиять на народную душу северный
и западный пейзажи, из которых один, лесной, более воспитывает сосредоточенность и внутреннюю
дисциплину, другой - гармоническое равновесие сил и способностей, сближающее русского человека
с западным европейцем» .
Современная культурология тоже выделяет
три русских субкультуры,
сформировавшиеся в
различных природно-климатических условиях в домонгольский период.
Южная субкультура
была ориентирована на азиатскую «степь». Киевские князья
предпочитали даже формировать дружинную гвардию из наемников племенного объединения
«черных клобуков », остатков тюркских кочевников - печенегов, тюрков, берендеев, осевших на
реке Рось. Южная субкультура была сметена монголо-татарским нашествием.
Новгородская субкультура
была нацелена на партнеров по ганзейскому союзу,
представлявших торговые островки европейской цивилизации. Если новгородцы и прибегали к
наемникам, то, как правило, ими становились варяги. Новгородская культура с ее демократическим
строем, высокоразвитой торговлей и ремеслами, в период монголо-татарского ига усилила свое
европейское своеобразие. Однако после присоединения к Москве в XV в. была разрушена
целенаправленной политикой Московских царей.
Северо-восточная
субкультура, развивающаяся преимущественно в лесной полосе,
основывалась на княжеской и крестьянской колонизации. Крестьяне в поймах рек осваивали
интенсивное земледелие, а в лесной полосе - экстенсивное: подсечно-огневое. Князья предпочитали
большие пространства свободных от леса ополий, постепенно расширявшихсяся путем сведения леса
под пашню. Технология земледелия здесь отличалась от крестьянской колонизации большей
интенсивностью и предполагала иную поселенческую структуру: население концентрировалось на
небольших территориях, что давало возможность княжеской власти осуществлять достаточно
эффективный его контроль. Монголо-татарское иго, с одной стороны, способствовало притоку
населения и росту мощи северо-восточных земель, а с другой стороны, усилило ориентацию на
экстенсивный путь освоения пространства.
4 Федотов Г. «Судьба нашей духовной культуры» //Диалог. 1991. № 18 .С.38-43

