Упрощенная HTML-версия
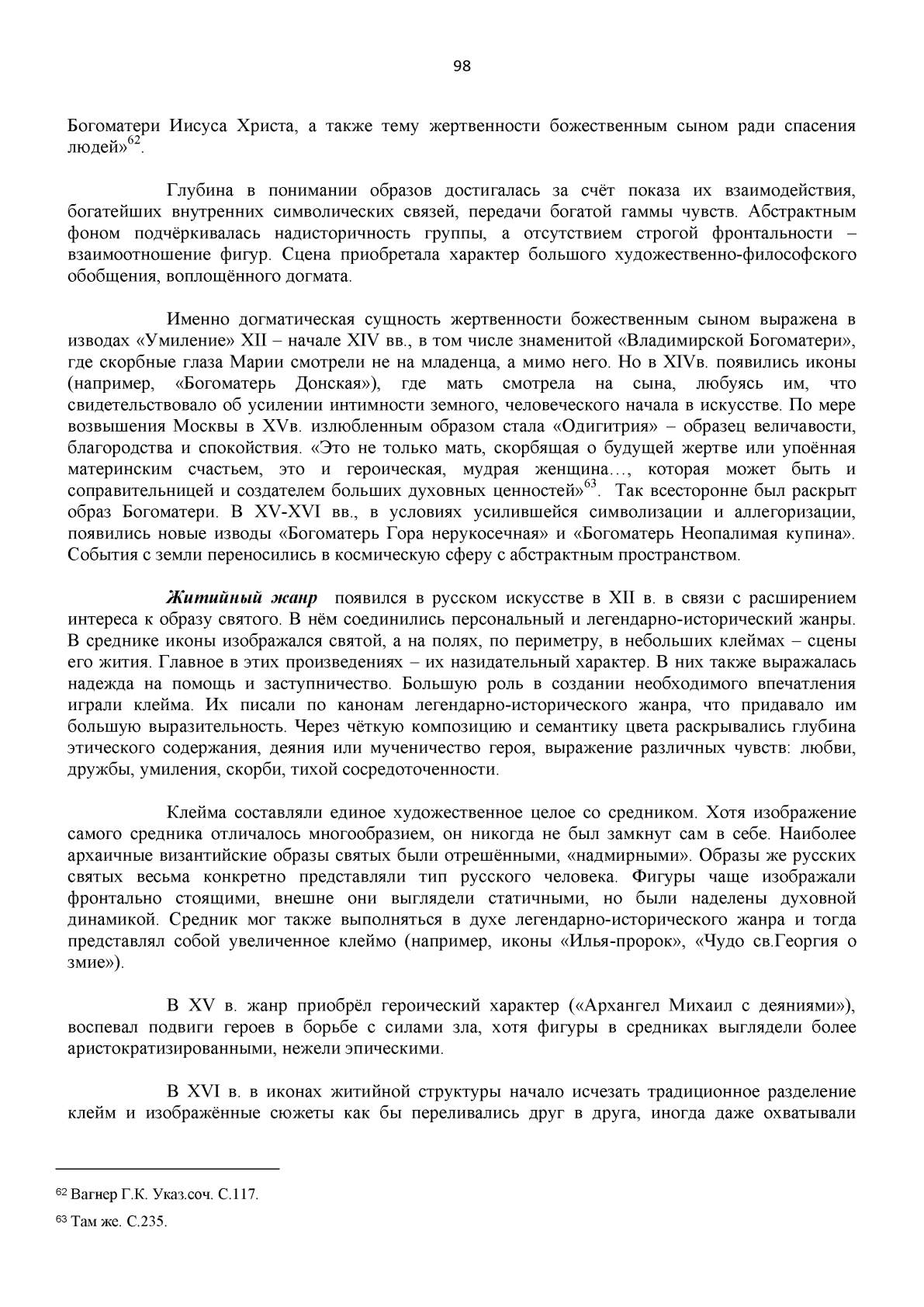
98
Богоматери Иисуса Христа, а также тему жертвенности божественным сыном ради спасения
^ 62
людей» .
Глубина в понимании образов достигалась за счёт показа их взаимодействия,
богатейших внутренних символических связей, передачи богатой гаммы чувств. Абстрактным
фоном подчёркивалась надисторичность группы, а отсутствием строгой фронтальности -
взаимоотношение фигур. Сцена приобретала характер большого художественно-философского
обобщения, воплощённого догмата.
Именно догматическая сущность жертвенности божественным сыном выражена в
изводах «Умиление» XII - начале XTV вв., в том числе знаменитой «Владимирской Богоматери»,
где скорбные глаза Марии смотрели не на младенца, а мимо него. Но в ХГУв. появились иконы
(например, «Богоматерь Донская»), где мать смотрела на сына, любуясь им, что
свидетельствовало об усилении интимности земного, человеческого начала в искусстве. По мере
возвышения Москвы в XVв. излюбленным образом стала «Одигитрия» - образец величавости,
благородства и спокойствия. «Это не только мать, скорбящая о будущей жертве или упоённая
материнским счастьем, это и героическая, мудрая женщина..., которая может быть и
соправительницей и создателем больших духовных ценностей»
63
. Так всесторонне был раскрыт
образ Богоматери. В XV-XVT вв., в условиях усилившейся символизации и аллегоризации,
появились новые изводы «Богоматерь Гора нерукосечная» и «Богоматерь Неопалимая купина».
События с земли переносились в космическую сферу с абстрактным пространством.
Житийный жанр
появился в русском искусстве в XII в. в связи с расширением
интереса к образу святого. В нём соединились персональный и легендарно-исторический жанры.
В среднике иконы изображался святой, а на полях, по периметру, в небольших клеймах - сцены
его жития. Главное в этих произведениях - их назидательный характер. В них также выражалась
надежда на помощь и заступничество. Большую роль в создании необходимого впечатления
играли клейма. Их писали по канонам легендарно-исторического жанра, что придавало им
большую выразительность. Через чёткую композицию и семантику цвета раскрывались глубина
этического содержания, деяния или мученичество героя, выражение различных чувств: любви,
дружбы, умиления, скорби, тихой сосредоточенности.
Клейма составляли единое художественное целое со средником. Хотя изображение
самого средника отличалось многообразием, он никогда не был замкнут сам в себе. Наиболее
архаичные византийские образы святых были отрешёнными, «надмирными». Образы же русских
святых весьма конкретно представляли тип русского человека. Фигуры чаще изображали
фронтально стоящими, внешне они выглядели статичными, но были наделены духовной
динамикой. Средник мог также выполняться в духе легендарно-исторического жанра и тогда
представлял собой увеличенное клеймо (например, иконы «Илья-пророк», «Чудо св.Георгия о
змие»).
В XV в. жанр приобрёл героический характер («Архангел Михаил с деяниями»),
воспевал подвиги героев в борьбе с силами зла, хотя фигуры в средниках выглядели более
аристократизированными, нежели эпическими.
В XVT в. в иконах житийной структуры начало исчезать традиционное разделение
клейм и изображённые сюжеты как бы переливались друг в друга, иногда даже охватывали
62Вагнер Г.К. Указ.соч. С.117.
63 Там же. С.235.

