Упрощенная HTML-версия
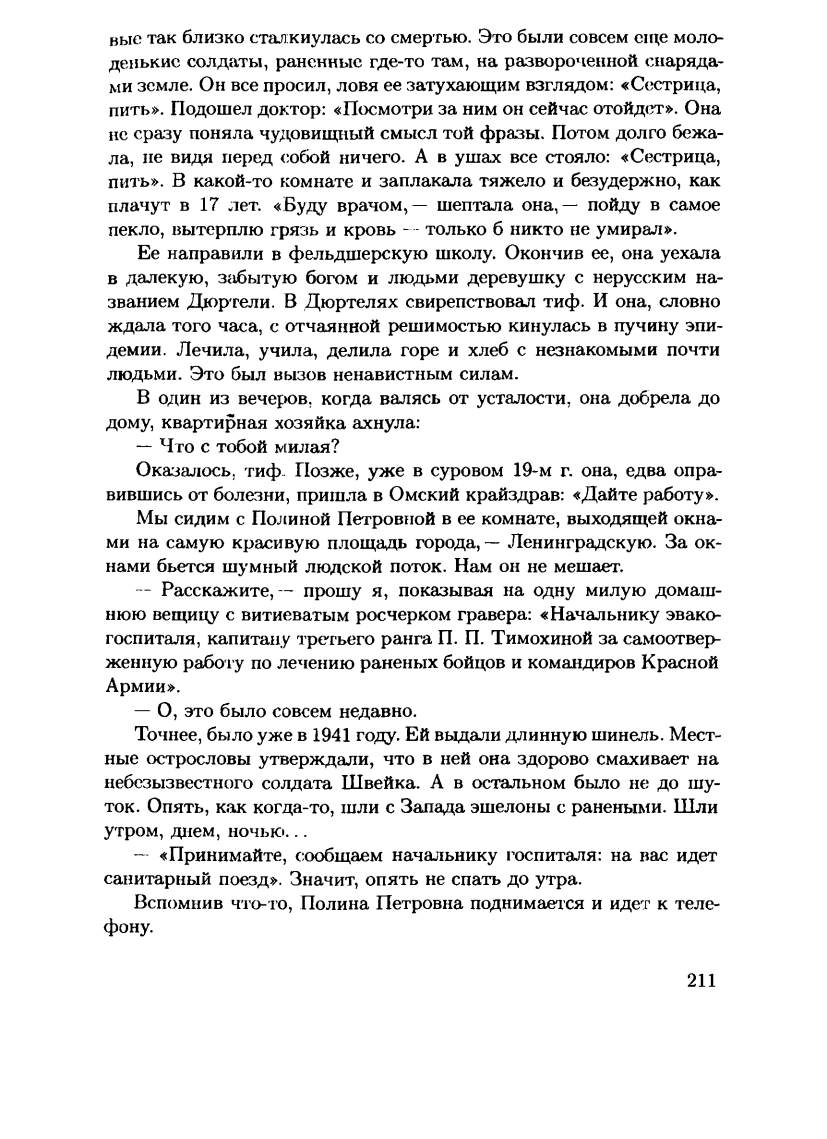
вые так близко сталкиулась со смертью. Это были совсем еще моло
денькие солдаты, раненные где-то там, на развороченной снаряда
ми земле. Он все просил, ловя ее затухающим взглядом: «Сестрица,
пить». Подошел доктор: «Посмотри за ним он сейчас отойдет». Она
не сразу поняла чудовищный смысл той фразы. Потом долго бежа
ла, не видя перед собой ничего. А в ушах все стояло: «Сестрица,
пить». В какой-то комнате и заплакала тяжело и безудержно, как
плачут в 17 лет. «Буду врачом,— шептала она,— пойду в самое
пекло, вытерплю грязь и кровь - только б никто не умирал».
Ее направили в фельдшерскую школу. Окончив ее, она уехала
в далекую, забытую богом и людьми деревушку с нерусским на
званием Дюргели. В Дюртелях свирепствовал тиф. И она, словно
ждала того часа, с отчаянной решимостью кинулась в пучину эпи
демии. Лечила, учила, делила горе и хлеб с незнакомыми почти
людьми. Это был вызов ненавистным силам.
В один из вечеров, когда валясь от усталости, она добрела до
дому, квартирная хозяйка ахнула:
— Что с тобой милая?
Оказалось, гиф Позже, уже в суровом 19-м г. она, едва опра
вившись от болезни, пришла в Омский крайздрав: «Дайте работу».
Мы сидим с Полиной Петровной в ее комнате, выходящей окна
ми на самую красивую площадь города, — Ленинградскую. За ок
нами бьется шумный людской поток. Нам он не мешает.
-
Расскажите, — прошу я, показывая на одну милую домаш
нюю вещицу с витиеватым росчерком гравера: «Начальнику эвако
госпиталя, капитану третьего ранга П. П. Тимохиной за самоотвер
женную работу по лечению раненых бойцов и командиров Красной
Армии».
— О, это было совсем недавно.
Точнее, было уже в 1941 году. Ей выдали длинную шинель. Мест
ные острословы утверждали, что в ней она здорово смахивает на
небезызвестного солдата Швейка. А в остальном было не до шу
ток. Опять, как когда-то, шли с Запада эшелоны с ранеными. Шли
утром, днем, ночью...
— «Принимайте, сообщаем начальнику госпиталя: на вас идет
санитарный поезд». Значит, опять не спать до утра.
Вспомнив что-то, Полина Петровна поднимается и идет к теле
фону.
211

